Александр Румянцев: Врачи сродни экстрасенсам
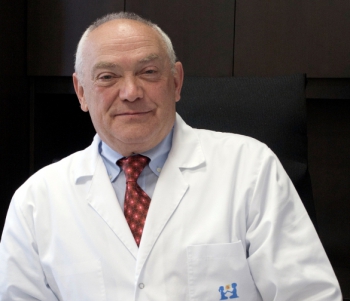
"Чаепития в Академии" — постоянная рубрика Pravda. Ru. На этот раз писатель Владимир Губарев встретился с известным гематологом, директором Федерального научно-клинического центра детской гематологии России Александром Румянцевым. Александр Григорьевич рассказывает о лечении детской онкологии, лейкемии, врачебном даре от Бога и чуде исцеления.
Прочел такую информацию: "В 2012 году мы отметили 50-летие организации первого в СССР отделения детской онкологии. В этом году — 50-летие открытия первого отделения детской онкогематологии. Оба они родились в Морозовской детской клинической больнице Москвы. Именно там корни нашего центра и НИИ детской онкологии… В мае прошлого года центру передали подмосковный санаторий, на базе которого лечебно-реабилитационный научный центр "Русское поле". В нем реабилитацию, долечивание, будут получать больные раннего возраста, пациенты с опухолями головного мозга, костей, те, кто перенес трансплантацию костного мозга".
Эти слова принадлежат профессору А. Г. Румянцеву, директору Федерального научно-клинического центра детской гематологии России — одному из замечательнейших людей, с кем мне посчастливилось встречаться. Кстати, упоминание о санатории "Русское поле" и возвратило к истокам того, чем мы нынче гордимся… Именно здесь, в "Русском поле", мы и познакомились с Александром Григорьевичем Румянцевым. Разговор был долгим и обстоятельным.
— Александр Григорьевич, после Чернобыля мы вдруг узнали о бессилии нашей медицины. Имеется в виду лечение лейкозов и других заболеваний крови. В одночасье выяснилось, что эти болезни умеют лечить на Западе, а у нас нет. Как это могло произойти? Ведь даже в самые трудные годы похолодания между СССР и Западом, как известно, наши медики выезжали за границу, участвовали во всевозможных конгрессах и конференциях. И мы об этом читали, радовались, что "медицинская нить" не порвалась. А потом узнаем: наша медицина, в частности, детская гематология, отстала на два десятка лет! Вы были близки, так сказать, к "верхним эшелонам медицинской власти", поэтому объясните, почему такое случилось?
— Звание "профессор" или "доктор наук" вовсе не означает причастности, как вы говорите, к "верхним эшелонам власти". По крайней мере для меня и моих ближайших друзей и соратников. А почему такое произошло, попробую объяснить. Конечно, контакты были, но они носили официальный характер. Возьмем, к примеру, съезд педиатров. Кто туда ездил? Обязательно один из работников Минздрава, один директор головного института, администратор и обязательно "третий человек", который наблюдал за остальными.
Был такой случай, почти анекдотический. Появился у нас аспират из Колумбии, приехал учиться. Я дал ему тему по новорожденным. Он посидел в библиотеке, посмотрел весь спектр исследований, сделал работу в той области, которой мы практически не занимались. И решил съездить в Европу, к тому специалисту, который занимался такой же проблемой. Им оказался испанец, именно он считался "светилом" по патологии новорожденных — детей первого месяца жизни. Колумбиец приехал к нему. Медицинский светило, как всегда, был очень занят, но когда он узнал, что аспирант из Советского Союза, страшно удивился. ОН тут же позвал колумбийца, и первый вопрос: "А что в Советском Союзе есть педиатры?" Оказывается, в течение тридцати лет на все конгрессы и конференции по педиатрии ездил один и тот же человек, а потому у западных коллег сложилось представление, что других просто нет… Обычно в таких международных встречах участвуют профессионалы, и они видели, что приезжает чиновник, который ничего не понимает.
— Все-таки это исключение…
— Есть и другая сторона проблемы. По глубокой национальной русской уверенности мы считали, что у нас все самое лучшее, передовое, и учиться нам нечему и не у кого. А потому выработалось абсолютное неумение кооперироваться с коллегами, работать с ними вместе. Никто ни с кем не сотрудничал! Водку пили, и тосты произносили, но вместе не работали. Да, общались, обнимались, говорили хорошие слова, но не более того… Чтобы взять результаты, полученные там и здесь, обсудить их, подумать, как идти дальше, — такого не было. А ведь это главное в науке, и в медицине, в частности.
Этот этап на Западе пройден давно, люди привыкли к кооперации исследований, они верят друг другу, и поэтому там был творческий рост. А у нас все зависело от личности. Приезжаешь, к примеру, в Белоруссию. Спрашиваешь, как вы лечите больного лейкемией? Отвечают: мы лечим по "Тяпкину-Ляпкину". Кто такой? "Как вы не знаете нашего крупного ученого!?" И потом выясняется, что он такой и сякой, в общем — он все! А на самом деле никто его не знает, о методике его и не слышали. Те работы, что печатались здесь, за рубеж не попадали, сами исследователи не выезжали. А там оценивают именно по тому, как он работает в научном мире. Хороший специалист имеет 15 публикаций в год. У нас они есть, но никто их там не читает, и потому у Запада к нам отношение примерно такое же, как у нас к Эфиопии. Рассказать, какое там здравоохранение?
— Наверное, это не очень интересно…
— И на Западе к нам было примерно такое же отношение. Причем это касается любого вопроса здравоохранения… Десять лет я был главным детским гематологом России, а на момент распада СССР занимал должность главного гематолога Советского Союза. Но первый раз попал на профессиональную встречу за границей только в 89-м году. До этого я никогда не был на подобных конференциях. Нет, на Запад выезжал, но так сказать, "по культурной линии", однако по профессиональным вещам — никогда!
— Странно такое слышать…
— Может быть, я слегка преувеличиваю, но по сути, к сожалению, это правда.
— У нас, обывателей, сложилось представление, что самая трудная профессия среди медиков — хирургия. Я понимаю, что не можете с этим согласиться, но, тем не менее, прошу вас попытаться определить место гематолога в медицинской иерархии. Конечно, это чисто условно. Или вы считаете, что труднее вашей профессии нет?
— Условно можно разделить нас на две профессиональные группы: хирурги разных специальностей и терапевты. Профессия хирурга отожествляется с подвигом, с работой в экстремальной ситуации. Действительно, эта специальность требует большого физического напряжения, кроме того, умения в сложной ситуации, подчас возникающей неожиданно, правильно принять решение и так далее. Но, тем не менее, в хирургии очень много серых людей, и не случайно в вузе во время отбора это видно отчетливо. Прежде всего половой признак — мальчики идут в хирурги. И к сожалению, есть и другая особенность — это не лучшие ученики, с точки зрения подготовки, потому что для хирургии… большое значение имеет техника руки, а творческий потенциал как бы находится в тени.
Те же люди, которые не связаны с хирургией, — то, что называется "терапия", просто обязаны быть высокоинтеллектуальными специалистами. Для них очень важна общая терапевтическая позиция, и она зависит прежде всего от врожденного чувства врача. Они своеобразные экстрасенсы, они ощущают пациента. Как хотите, но такой талант чрезвычайно редок. Пожалуй, в нашей бригаде лишь один человек — он, кстати, очень молод — обладает этим качеством. Он подходит к больному и ощупывает его в целом. Такое чувство воспитать нельзя: оно дар Божий. В общем лишь он один может сказать: "Я вижу больного насквозь!"
— Познакомите?
— Чуть позже… Что касается другого класса врачей терапевтов — имейте в виду, я говорю о хороших врачах! — то они идут от так называемой "идеи", то есть у них в голове находится компьютерная машина, построенная на особых элементах знания. Они не ощущают больного, но их "компьютер" анализирует данные и делает соответствующие выводы. Из первого типа врачей никогда не получаются ученые. Он и могут сделать карьеру, добиться выдающихся результатов в лечении, но обучить других своему искусству врачевания они не могут. Невозможно повторить их опыт, и передать его нельзя. Повторяю, это очень редкий дар!
И лично у меня, относящегося ко второй группе, их умение просто вызывает зависть. В терапии, не в хирургии, есть особая специальность. Это гематология — отрасль знаний, которая контролирует среду, связывающую все органы человека в единую систему. Эта специальность требует особых знаний. На Западе после окончания университета врачом-онкологом и врачом-гематологом можно стать лишь через 6-8 лет специальной подготовки. Кроме того: гематология более или менее поддается математике, науке, в то время как медицина — это все-таки искусство.
— Это потому, что вы можете работать с клеткой?
— Именно! К примеру, лейкемия. В силу того, что опухоль движется по крови, она может контролироваться в любую секунду. Вы можете проследить за ней, оценить, как действуют лекарства, заметить ее изменения — а это значит, что можно построить модель. И действительно, лейкемия как модель стала главным инструментом познания рака. Практически все виды опухолей исследуются по этой модели. На лейкемии мышей, кошек, собак, коров и так далее. И наконец, лейкемия человека, и прежде всего ребенка, потому что у него это основная форма опухолей. Так что гематолог — человек предопределенный, вступив в эту область медицины, он никогда из нее не уходит — по крайней мере, я не знаю таких.
— Вы можете проиллюстрировать этот тезис своим примером?
— На пятом курсе совершенно случайно попал в группу к профессору Махоновой. Впоследствии крупный терапевт, известный гематолог, она в те годы была просто преподавателем. Она принадлежала к тем самым врачам с Божьим даром. Ну, к примеру, существует определенный порядок осмотра пациента: он раздевается до пояса, его врач ощупывает, осматривает и так далее — в общем, хорошо известная вам процедура. Она же никогда не просила пациента раздеться, осматривала его очень быстро… Я ничего не мог понять! Хвостиком за ней ходил, присматривался, но повторить ее методику просто не мог!… И ведь всегда ставила блестящий диагноз!… Этому у нее научиться не мог, но она увлекла меня новой областью, где требуется анализ, расчет, моделирование ситуаций.
Казалось бы, тут легче найти выход, но больные умирали… Будто стена безнадежности… И вот тут-то стало очевидно, что "на проходе" нельзя заниматься такими больными, да и материальных выгод никаких — ведь речь идет о неизлечимой болезни. Поэтому гематологи (убежден в этом!) — аномальные люди, они работают в своем ключе — ведь для них вопрос жизни и смерти является принципиальным. Грубо говоря, болезнь типа поноса или насморка гематолога не волнует. Надо мной жена смеется, потому что когда приходят ко мне с каким-то заболеванием, я же говорю — чепуха! Рано или поздно пройдет, прокатимся… А иное дело, когда речь идет о смерти. Наша специальность относится к драматической медицине, поэтому в ней работают исключительно симпатичные и веселые люди…
— Вот уж не ожидал такого резюме!
— У нас нельзя быть мрачным человеком! Профессия требует оптимизма, да и условия работы тоже. В отделении гематологии смерть пациента — случай не исключительный. Каждая смерть — трагедия. У нас она отзывается особенно больно: ведь наши больные связаны с врачом многими годами жизни. Каждый пациент находится под наблюдением от трех до пяти лет, и ты становишься членом его семьи. Иногда эта связь больного и врача начинается в детстве. И если больной раком ребенок женится, потом у него крестины, то это "высший пилотаж" лечения, Естественно, во всех семейных торжествах самый почетный гость — гематолог. И еще есть одна характерная особенность нашей области медицины.
В ней за 20-25 лет произошли такие коренные изменения, в которые невозможно было поверить! Такого прогресса не было нигде, и это заслуга в первую очередь гематологов… К сожалению, об этом не очень хорошо известно. Остановите на улице любого врача и спросите: какова ситуация с лейкемией? В подавляющем большинстве случаев он недоуменно пожмет плечами, мол, не знаю, не интересуюсь. Он считает, что все дети погибают. Но мы-то знаем: все иначе! У наших пациентов есть уже внуки. Да, да, мы лечили когда-то ребенка, он вырос, у него появились дети, и у этих детей — свои дети…
— Но вы не только специалисты по крови?
— Конечно. Поскольку опухоли проникают в разные органы, мы вынуждены заниматься и смежными областями медицины. Это трудный хлеб. Приходится каждый раз творчески подходить к работе и это доставляет большое удовольствие, так как застоя просто быть не может. Если ты работаешь нормально, то есть творчески, то ты постоянно в движении, в развитии. Но есть одна особенность. Если ты хочешь поймать свою "звезду", то тебе надо начинать рано, сразу же после окончания университета. Иначе тебя испортит система здравоохранения, она докажет, что ты можешь прожить спокойно и получать больше, если не пойдешь в гематологию. Надо сразу "заболеть" ею, тогда успех обязательно придет.
— Долгим оказался ответ на вопрос о профессии, но мне кажется, вы доказали, насколько уникальна и своеобразна профессия гематолога.
— Мне хотелось показать, почему мы сразу же со студенческой скамьи отбираем в своей институт ребят и почему так молоды наши врачи и исследователи. Каждый год мы берем 20-25 человек. Этим ребятам сейчас по 23-24 года, и они работают с пациентами. Некоторые уходят сразу, и это нормально — не каждый способен выдержать. Но те, кто остается, то уже навсегда.
— Вы удачно начали. А что в дальнейшем? Каким вы видите завтра Центр детской гематологии в Москве? И чего вам не хватает, чтобы осуществлять задуманное?
— Не хватает очень многого, но я прекрасно понимаю, что нужно ставить достижимые цели. Реальные в нашей непростой жизни. И по возможности эффективные. И самое главное, что я понял в последнее время — к этому выводу я шел долго! — нет проблем. И вот почему. У каждого человека в жизни приблизительно одинаковое количество хороших и плохих ситуаций, а он должен их разрешить. От человека зависит, какое решение он примет — правильное или нет. Когда я говорю "нет проблем!" — для меня это значит, что надо действовать. Конечно, я мог бы долго рассказывать, что именно надо, чего нам хочется, но что из этого вытекает? Да ничего по сути!… Гораздо лучше действовать. У нас есть вполне конкретные планы. Они кажутся утопическими, но для других.
— Итак, что вы хотите и что делаете?
— Мы создаем независимый детский центр в области гематологии, онкологии и иммунологии. Эти области связаны между собой очень тонкими нитями, они друг без друга не существуют, взаимно обогащают. Но в реальной жизни они разбежались… Сейчас я уточню, что хочу сказать. 25 лет назад на Западе произошла революция в медицине. К сожалению, у нас в стране она прошла незамеченной. Там детская гематология и онкология были объединены, этого требовала логика специальности. Если в общей гематологии онкогематология занимала приблизительно двадцатую часть, то у детей ситуация иная — здесь уже половина. Спрашивается: зачем эту специальность разъединять? Так у нас ложилось, что онкология в руках у хирургов, у нас они играют главную роль. На Западе хирургов оттеснили, так как у детей онкогематология, помните — половина всех заболеваний! — вообще не может излечиться хирургическими методами. Еще 25 процентов опухолей тоже не во власти хирургов — тут на передний план выходит химиотерапия. Плюс к этому детская иммунология, в ней есть свои особенности.
На мой взгляд, путь лечения и познания лежит именно в этом тройственном союзе: гематология, онкогематология и иммунология. Честно говоря, даже там, на Западе, еще не до конца понимают плодотворность такой идеи. Но заинтересованность огромная, и это мы чувствуем. Дело в том, что мы видим свою задачу не в повторении того, что уже сделано на Западе. Да, мы обязаны воспользоваться их достижениями, и они охотно с нами ими делятся, но только копировать — значит, отстать навсегда. Очень важно обнаружить пробелы в методиках, посмотреть, какие пути упущены, и наконец, вместе сделать шаг вперед. Именно поэтому мы стараемся вместе разрабатывать новые программы, активно в них участвовать, как равные партнеры.
— Удается?
— Могу без должной скромности сказать, что нас теперь воспринимают таковыми в разных школах Европы и Америки. Конечно, полностью избавиться от косых взглядов, мол, у вас тараканы в больницах, а вы в будущее вместе — до конца мы еще не смогли, но уважительного отношения к себе все-таки добились. Об этом свидетельствует и проведение Европейской школы по детской гематологии в Москве. Раньше о таком и помыслить было нельзя, а теперь это реальность. Безусловно, прорывом в мировой гематологии во многом мы обязаны молодым нашим ученым и врачам, которые отбросив догмы, смело ринулись навстречу неизвестному. Их знания, их талант, наконец, их потрясающая работоспособность позволили поднять авторитет нашей науки. И, что важно, уже вместе с немцами — а они выдающиеся специалисты в нашей области! — мы подготовили новый эксперимент.
Были невероятные сложности, до скандалов доходило, но безупречная честность немецких медиков сыграла свою роль. Когда мы тщательно проверили все истории болезней — буквально с карандашом и калькулятором — их руководитель, который в Берлине был просто агрессивен, сказал: "Снимаю шляпу, виноват, приношу свои извинения. Поддержу новую программу, и лишь об одном жалею, что не могу в ней принять участие". Это старый человек, 25 лет отдавший детской гематологии, спасший многие тысячи жизней детей, имеющий все мыслимые и немыслимые награды и звания… И вот он честно признался перед мальчишками, по сравнению с ним, в своей ошибке. Это мужество истинно великого ученого!
-Именно честность и двигает науку?!
— Конечно. Но должна существовать и соответствующая атмосфера.
— Творческая?
— Это неудачное определение… Точнее — должно быть брожение. Необходима новая закваска. Воспитание не на старых, а на новых традициях. На мой взгляд, когда мы начинали, удалось выработать идеальную тактику. Прежде всего, изменение менталитета. От него зависит все! И мы всех молодых ребят, которые работали в институте, отправляли в зарубежные клиники. И медсестер тоже. Для этого потребовались огромные усилия, пришлось выпить и много водки — что поделаешь! — но все-таки такое удалось осуществить. И когда нас спрашивали о помощи, мы говорили: поучите наших ребят. Нужно, чтобы молодые увидели, как работают в западных клиниках, чтобы они сами поварились в этом соку, увидели, насколько тяжело достается хлеб на Западе. Находили спонсоров, искали деньги, но это неважно, главное: в течение двух лет по 2-3 человека находились в тех или иных центрах, где учились и работали.
— Складывается впечатление, что подготовка настоящего гематолога стоит очень дорого, во много раз больше, чем, к примеру, хирурга?
— Но и лечение требует огромных затрат. В среднем на каждого нужно 30 тысяч долларов. Один ребенок и один курс лечения. Нужны ведь не только лекарственные препараты, но и особые условия в клинике — специальное белье, инструмент и так далее… Чем мы по праву гордимся, что многое удалось сделать в нашей клинике за полтора года. Я не хвалюсь, констатирую. Приехали наши коллеги из Германии, посмотрели, сказали: нам потребовалось 25 лет, а вам полтора года. Конечно, и они, и мы прекрасно понимали, что без помощи коллег с Запада об этом и помышлять было нельзя. Когда я так говорю, я прежде всего имею в виду процент выздоравливающих…
Мы приблизились к уровню западных клиник, то есть до 70 процентов детей излечиваем. А есть некоторые опухоли, заболевания, где процент доходит до 96!… Да, говорю это с гордостью, потому что имеем право на нее… Вы знаете, потрясающее чувство испытываем все мы, когда ребенок уходит из клиники, забыв навсегда, что у него была лейкемия. И такие результаты налицо. Но, повторяю, это делается с помощью западных коллег, наших специалистов, которые обучены там, и благодаря медсестрам, которые также прошли стажировку в зарубежных клиниках.
— Кто вам помогал здесь больше всего?
— Государство. Больница существует на государственном бюджете. Далее могу назвать ряд фондов. На эти средства мы покупали лекарства, к тому же эти люди помогали нам устанавливать контакты с зарубежными фирмами. Американские фармацевтические фирмы и церковь увидели, что мы не тратим средств напрасно, все тщательно контролируется, а потому они охотно помогают. Надо отчетливо понимать — наша область очень дорогая. К примеру, трансплантация костного мозга в США стоит до 200 тысяч долларов, в Израиле дешевле — 50-70 тысяч. У нас же бедная страна, а потому мы можем работать только с помощью спонсоров и благотворительных организаций.
— Вы упомянули о медсестрах… По-моему, вы первые, кто отправляет их на стажировку за границу?
— У нас всегда считалось, что сестра нечто вспомогательное, вторичное. НО на самом деле должен быть равный подход. Врач выбирает тактику, а лечит больного сестра. Она находится с пациентом. В наших русских больницах все иначе, а западная медицина, образно говоря, держится на профессионализме медсестер. Мы взяли девушек из училища, отобрали, конечно, лучших, тех, кто знал иностранный язык, и сразу включили их в лечебный процесс. С ними врач разговаривал на равных. У лечащей сестры группа палат, она ведет определенное количество пациентов, и каждый день к ней на визит — это очень правильно называется! — приходит доктор. И он дает ей тот или иной совет, а лечит именно сестра.
Это не только моральный стимул, его одного недостаточно — такая система обязывает и материальный уровень сестры держать на должной высоте. Мы должны понимать изменение ее статуса. Когда сестра приходит в клинику, чтобы отбыть положенное время, — это одно, но если она лечит — совсем иное. Кстати, когда спустя шесть месяцев после такой реорганизации к нам приехали немцы, они были удивлены, что наши результаты по выхаживанию больных лучше, чем у них…Этим они подтвердили, что мы не только переняли лучшее на Западе, но и внесли свои особенности, характерные именно для русских традиций. А если мы о них вспомним, то определение "сестра милосердия" появилось у нас… В общем, принцип "каждому свое" в нашей области следует соблюдать неукоснительно.
— У вас в клинике не очень любят, когда больной долго находится в стационаре?
- Там, где умеют считать деньги, коек мало. Койка стоит дорого. Это ведь не только комната, где стоит железная кровать, вернее — пять, десять или двадцать в одной палате. Понятие "койка" подразумевает целый технологический процесс. Дешевле пациента лечит амбулаторно. Поэтому на Западе была разработана много лет назад специальная система амбулаторного лечения, на дому, в семье. По сути в лечебный процесс включаются близкие и родственники больного.
Это дешевле и для семьи, снижается уровень потребления страховки, возникает двойной контроль и, наконец, меняется психология больного, который совершенно иначе себя ощущает вне больничной палаты. В общем, появилась принципиально новая система лечения. В крупнейшей клинике в Мемфисе, аналогично которой мы хотим создать здесь, всего 50 коек. Все остальное — амбулаторное лечение. Центр в Мемфисе — гигантская диагностическая служба. Койки занимают только те, кому это абсолютно необходимо, а потому пропускная способность стационара огромная. Мы попытались в прошлом году поработать также, и "производительность койки", извините за столь вольный термин, у нас повысилась до 250 процентов.
Открою секрет: формально, для контрольных служб, а их у нас множество, больные на койне лишь числились, лечились же они амбулаторно. Конечно, нагрузка на персонал возрастает. В отделении лежит десять человек — оно рассчитано на 30, но ежедневно лечение проходит 35-40 человек. А ведь больной приходит, его нужно принять, ввести лекарство, проверить, потом отправить домой. Казалось бы, мороки больше, но на самом деле врачу легче. Ведь известно, что самая гнусная инфекция живет в больнице, потому что по нашим стеночкам везде есть посевы болезнетворных бактерий. Они разрастаются, попадают к больному. И не случайно, что госпитальные инфекции необычайно тяжелы — это хорошо известно врачам.
Плюс к этому в отделении исчез гепатит. Он передается через кровь, через микротрещины, при контактах между больными. Только организационные мероприятия, а именно амбулаторное лечение, снизили заболевания гепатитов в 10-15 раз. Есть и другие преимущества — не буду вдаваться в подробности, но для нас уже ясно, что расширение амбулаторного лечения, грамотного и профессионального, позволяет резко расширить возможности Центра по лечению детской лейкемии.
— О чем вы мечтаете?
— Хочу уйти из государственной системы. К этому и готовлю персонал. Я профессиональный врач, а потому хочу быть свободным. И такие же люди объединились вокруг меня, мы — друзья, и нам уже во многом удалось оторваться от системы, которая сдерживала каждого из нас. У нас в институте сейчас 36 профессоров высокого класса, почему же они должны выполнять чьи-то приказы или указы! Да, они сами все могут понять, осмыслить и найти правильный выход. Они же — свободные люди… Нет, борьба не закончена, может быть, еще только самое начало, но я не сомневаюсь в победе.
Только что распался Советский Союз, еще не утихли политические страсти, а профессор Румянцев уже вырвался на свободу…
Читайте также:
В России снизилась смертность от рака
"Все чудеса в онкологии - это работа врачей"
Эксперт: Тотальный медосмотр может не выявить опухоль, даже если она есть
Беседовал Владимир Губарев
- Коммунисты просят Чайку проверить законность выделения квартир сотрудникам ЦБР
- Врачи исключили заражение Эболой у россиянина в Приморье
- Moncrief отказалась от иска к "Газпрому" на $1,37 млрд
- Пресса Британии: как Запад потерял Путина
- Инкассаторы "Почты России" отбились от грабителей в Ярославле
- Мобилизация по-украински
- В одиночку дал отпор шестерым грабителям. Видео
- "Газпром" вложит в ямальские проекты 120 миллиардов рублей
- Суд 10 февраля решит вопрос о продлении ареста Надежде Савченко
- Александр Долгов утвержден в качестве главного тренера сборной России по фристайлу
- 4 февраля: День запрета пыток, Табель о рангах и день рождения FB
- В Тульской области полностью отменены пригородные поезда
- Футбольные трасферы
- В результате крушения самолета TransAsia на Тайване погибли 9 человек
- Двух жительниц Волгограда осудят за работорговлю
